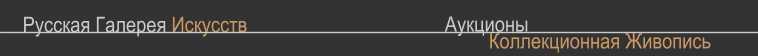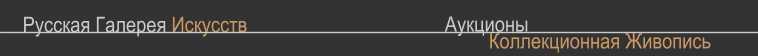Журнал "Русский репортёр" № 12 (42) от 3.04.2008 "Молот пролетариата"
03 Апреля 2008
Если что-то не продается, это значит только одно: пока еще не нашелся покупатель. Прайс-листы давно уже прилагаются и к вечным ценностям. Механизмы ценообразования в искусстве лучше всего изучать на практике — например, на аукционах. На аукционе, организованном Русской галереей искусств, «РР» наблюдал, как продают и покупают прекрасное. Вечных ценностей набралось довольно много — 82 лота. Впрочем, до аукциона никакими лотами они не были и жили не продажной, а насыщенной духовной жизнью. Несколько дней картины, которые попали сюда из частных коллекций, других галерей или от родственников и наследников авторов, были экспонатами специально организованной выставки. Они висели на стенах на белых веревочках, спускавшихся с потолка и со светильников, имитирующих подсвечники и снабженных декоративными хрустальными подвесками. Висели и радовали глаз. Но за полчаса до начала торгов работы сняли и унесли в отдельную комнату, оставив на идеальных белых стенах сиротливо свисающие веревки. Во время аукциона каждый лот торжественно устанавливали на мольберте и подсвечивали двумя изящными светильниками. Все происходило в Советском зале отеля «Советский»: люстра, зеркала в позолоченных рамах, светлые чехлы на стульях, хорошо знакомые негромкие песенки, звучащие из динамика рядом с аукционной трибуной, — законсервированная роскошь вчерашнего дня. В метро указателей на выход к отелю «Советский» нет. В интернет-системах бронирования гостиничных номеров проезд объясняется не от метро «Динамо» или «Белорусская», а прямо от аэропорта «Шереметьево». Расписывается удобство расположения — рукой подать до любой исторической достопримечательности и всех тех мест, которые иностранец обязан посетить в Москве. Кремль, Большой театр, Московский ипподром — само собой, а еще галерея «Актер», Фонд Горбачева, выставочные центры в Сокольниках и на ВДНХ, Спортивный комплекс ЦСКА. Между метро и отелем (это на сайте не указывается) есть небольшой парк. Иногда на скамейках там спят бомжи. В день аукциона, например, спали — была хорошая весенняя погода, светило солнце, и над историческим отелем «Советский» развевался красный флаг. Свободная минутка между ипподромом и Большим театром — лучшее время для бизнеса, для быстрых и выгодных вложений в русское искусство. Правда, у иностранцев, проживающих в этом отеле, другое мнение. Какое точно, выяснить не удалось, потому что до аукциона они не дошли. Ведущий торгов и один из директоров галереи Юрий Герасимов объясняет это так: «Не только я, но и все наше руководство убеждено, что отечественная живопись востребована именно в России. Русская реалистическая школа уникальна. Нигде в мире подобной не сохранилось. А у нас с XIX века и по сей день эти традиции живы. Поэтому мы когда-то и сделали ставку на пропаганду именно реалистического искусства». — Але, да, я на аукционе, — громко говорит по мобильному мужчина сурово-делового вида в темном свитере. — Меня Коля послал купить какую-нибудь картину. Сейчас буду покупать. Позади меня молодая пара, разглядывая каталог, очень компетентно обсуждает особенности представленных работ: «Нет, они не известны за пределами России. Но здесь-то они должны иметь успех». Многие пьют красное и белое вино с фуршетных столиков, некоторые — минеральную воду. Закусывают фруктами и бутербродами с красной икрой — больше нечем. Жаль, нет бутербродов с ветчиной или хотя бы сыра. Это наблюдение наводит на мировоззренческие выводы о России, в которой всегда так: либо красная икра, либо голодная смерть; либо бомж на лавке, либо жанровая сценка за $50 тыс. Хотя на картину можно потратить и гораздо меньше. А можно и больше. На этом аукционе, например, был установлен ценовой рекорд Русской галереи искусств: за $175 тыс. ушли «Черные кошки и белые хризантемы» Николая Тархова, чья выставка в свое время проходила в Третьяковке, произведения были опубликованы в каталоге, а самого художника Дягилев приглашал в Париж. Персональная выставка в Третьяковке и публикация репродукций в музейном каталоге — это просто не милые детали биографии. Это статусные факты, от которых напрямую зависит цена. Юрий Герасимов считает, что у цены на искусство три составляющие: «Первое, что влияет, — это, конечно, заслуги художника, который написал картину. Одно дело — народный художник СССР, а другое — какой-то неизвестный мастер. Также важен возраст работы. Спустя 50 лет после создания она уже является антикварным произведением. И третье — это даже не мода, а степень известности картины. Потому что художник может быть академиком, а его никто не знает. Среди коллекционеров и экспертов-аукционистов считается, что живопись — это наиболее выгодное вложение денег. То есть здесь цены растут гораздо быстрее, чем, скажем, при вложениях в золото, мебель, марки, ордена. Но честно могу сказать, что живопись — это, конечно, не хлеб: она ежедневно человеком не востребована, и все зависит от ситуации в стране. Если климат благоприятный, если нет социальных потрясений, то, конечно, живописью интересуются. Но в случае какой-то революции или иной критической ситуации спрос резко упадет. Впрочем, в ближайшие пять лет падения я не прогнозирую». И правда, в условиях глубочайшей стабильности интерес к русскому реализму налицо. Таблички с синими цифрами, заявлявшие о готовности приобрести работу, поднимались то в одном, то в другом конце зала. Обычное зрелище: ведущий описывает картину, называет цену и дальше увеличивает ее с небольшим шагом. «Так, вижу, спасибо, номер 33, повышаю до 62 тысяч 500 долларов. Номер 27, вы продолжаете участвовать?» И почти невозможно представить, что за этой игрой стоят реальные деньги. И еще сложнее — что за деньгами стоит прекрасное. Вообще, реализм — довольно шаткое искусствоведческое понятие. А уж про соцреализм и вовсе говорят, что его когда-то выдумали критики и теоретики Екатерина Деготь и Борис Гройс, чтобы вызвать интерес к советской живописи у иностранцев. Потому что одно дело — изображение советской действительности и совершенно другое — советской утопии. Утопия всегда стоит дороже. Главное — найти покупателей. С жизнеподобным образом реальности в соцреализме дело и правда обстоит туго: чистые деревни, аккуратные парки, солнечные дни, счастливые лица — какое уж тут жизнеподобие! Но картины, даже советского периода, участвующие в аукционе, к концептуальному соцреализму никакого отношения не имеют. У нас, настаивают организаторы, представлено продолжение художественной традиции передвижников, научившихся доставлять зрителям эстетическое удовольствие правдой жизни. Пейзажи, натюрморты, купола церквушек, академические дачи, женщины, полощущие белье в речке, — вот что пользуется проверенным спросом у российских покупателей. За понятность. И за красоту. Белая церковь на пригорке — это понятно и красиво, хоть в советское время она запечатлена, хоть в двухтысячные. Но лучше, конечно, в советское. И народным художником. И чтоб в каталоге была напечатана. На всякий случай. После торгов покупатели выстраиваются в очередь — оформляют сделки. Директор галереи Алексей Богачев волнуется, интервью давать отказывается — нужно, чтобы все прошло хорошо. О последующей судьбе картин рассказывает Юрий Герасимов: «Мы бывали у многих покупателей дома. В основном они живут, конечно, на Рублевке, в Горках-2, Барвихе. Социальный статус их должен позволять покупать дорогую живопись. Они показывали, как у них картины вписываются в интерьер. Некоторые даже украшают ими комнаты своих детей, чтобы у них воспитывался правильный вкус». Дети — это святое. Детские комнаты — тоже. И за вкус можно любые деньги отдать. Если они, конечно, не последние.
Полный текст: http://www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2008/12/russkoe_iskusstvo |